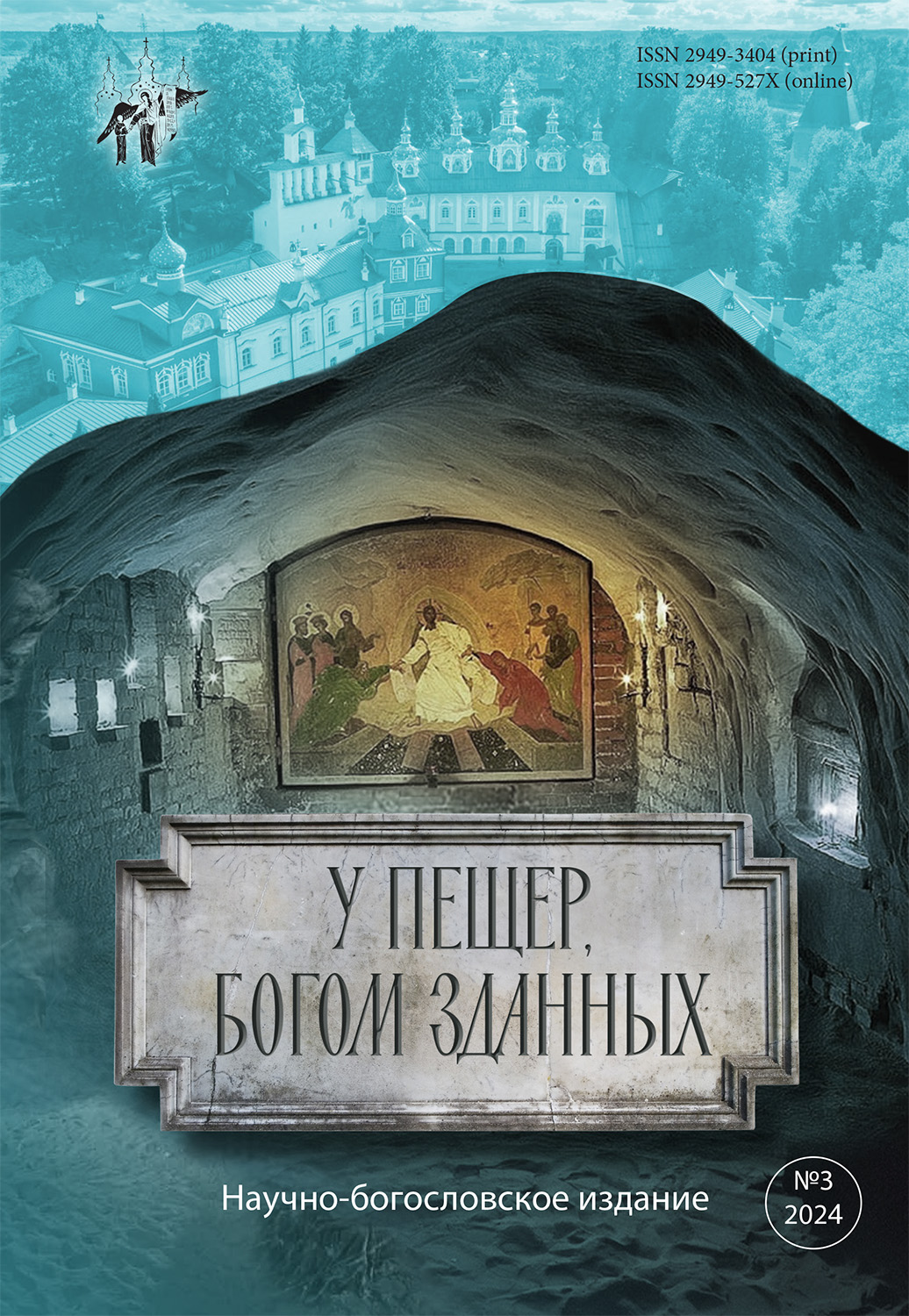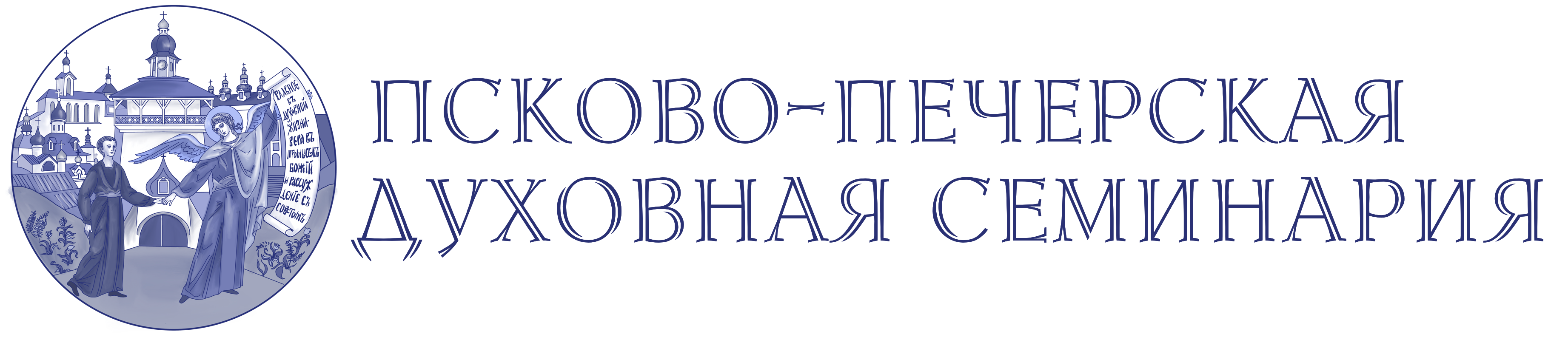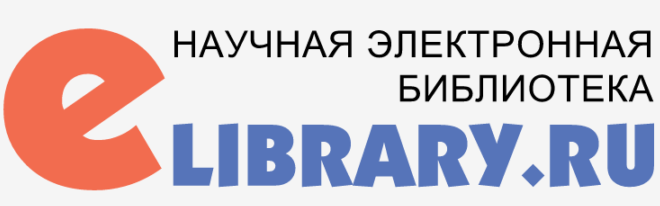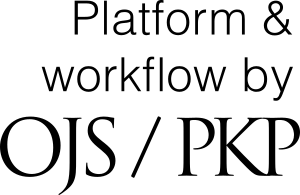Агапэ между «дискурсом максимума» и «дискурсом минимума» в теологии
Ключевые слова:
агапэ, любовь, всемогущество, слабая теология, Абсолют, coincidentia oppositorum, максимум, минимумАннотация
Следующие размышления находятся в пределах дисциплинарных границ религиозной философии. Их цель – выявить те скрытые дискурсивные возможности христианской философии, которые находятся вне богословского мейнстрима. Эти дискурсивные возможности напрямую связаны с темой агапэ. Теологический мейнстрим, о котором идет речь, можно условно обозначить как «дискурс максимума» или «теология мощи». «Дискурс максимума» исходит из всемогущества как одного из главных атрибутов Бога. Этот атрибут спекулятивно выводится из концепции совершенства и согласуется с (более сложным и противоречивым) пониманием Бога, данным в Библии. Это порождает сложные проблемы, как этические, так и логические. Кроме того, в нашем опыте нам не дано всемогущество (какое бы то ни было). То есть мы не можем ничему в эмпирически доступном мире приписать свойство абсолютной суверенности, нечувствительности к внешнему воздействию. Тогда возникает вопрос о целесообразности введения этого атрибута. Наиболее вероятный и развернутый ответ лежит в области политической философии и политической истории. Нетрудно показать, что такая «теология мощи» слабо согласуется с содержанием евангельских текстов – если не полностью противоречит им. Однако она была принята христианским богословием. В то же время следует признать, что «теология мощи» сама по себе в христианском контексте не может быть признана самодостаточной. С апофатической позиции правильно утверждать, что Бог не только «мощен», но и «не-мощен». Это значит, что речь о Божественной силе ничем не предпочтительнее речи о Божественной слабости (намек на которую нетрудно найти в евангельской литературе). С философской точки зрения эта эквивалентность может быть представлена с помощью концепции совпадения противоположностей (coincidentia oppositorum). «Дискурс максимума», расширяя это качество до предела, приводит к совпадению максимума и минимума. Это означает, что Бог столь же силен, сколь и слаб. Если нет ошибки в отождествлении «дискурса максимума» с «дискурсом минимума», то и христология нуждается в восполнении. Понятие кенозиса можно дополнить понятием плерозиса; мы можем мыслить воплощение Бога не только как самоопустошение, самоумаление Бога, но и как Его наполнение свойствами человеческой природы, как Его укрепление до уровня человеческого измерения. Однако по отношению к «дискурсу минимума» можно задать тот же вопрос, что и по отношению к «дискурсу максимума»: в чем целесообразность рассуждения о Божественной немощи, какое отношение имеет это рассуждение к человеческому опыту? Представляется, что опыт, адекватный «дискурсу минимума», есть опыт любви (а опыт, адекватный «теологии максимума», есть опыт власти). Условием любви является не грубость, а деликатность. Любовь Божия не принуждает, а освобождает. Бог деликатно замирает перед категорическим «нет» человека в ответ на признание в любви и ожидание взаимности. Бог проявляет свою слабость и призывает человека разделить состояние немощи там, где это нужно.